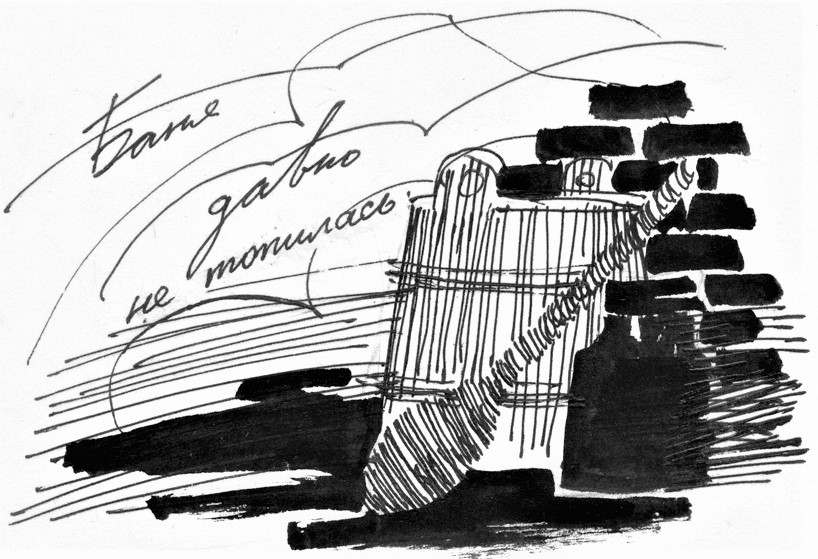Баня давно не топилась. Из щелей в полу тянулись бледные неживые травинки, а из подгнившего нижнего венца, изогнувшись, лез хлипконогий гриб. Остывшая каменка, рассохшаяся шайка, закопчённый котел, в котором успел свить паутину домовитый паук, - все это было на своих местах, но не было уже во всем этом той неукоснительности раз и навсегда заведённого порядка, что сама за себя говорит, что нынче же, в субботу, затрещит в печке сосновая лучина, огонь нехотя лизнёт горкой сложенные дрова, поползет по морёным бревнам белый дым, отыскивая под потолком тесное оконце душника и вываливаясь наружу сизым пахучим облаком... Хватаясь за грудь и кашляя, выскочит из бани стриженый подросток, плюхнется на скамейку у колодца, оботрёт кепкой вспотевший лоб и, отдышавшись, вновь ринется в дым поглядеть, не потухли ль сырые дрова.
Баня топилась плохо. Всякий раз она долго исходила дымом, пока огонь, наконец, не набирал силу и не принимался утробно и напористо гудеть. Дым понемногу рассеивался, и теперь можно было носить воду в большую пузатую кадку. Раз за разом бежать к колодцу и, перебирая руками тяжёлый, в задирах и заусеницах, крюк, тащить из сумрачной пустоты точно свинцом налитое ведро, слыша, как срываются и звонко плещутся где-то внизу живые тяжёлые капли и ходуном ходит взбаламученная вода... Пока бочка наполнялась, прогорали дрова, надо было рубить на еловом чурбаке сваленный в кучу древесный хлам и снова подбрасывать в ненасытную утробу жарко мерцавшей печи. В бане становилось тепло и сухо, и только слегка ело и пощипывало глаза. Под дощатой крышкой котла шумело. Мальчик подтаскивал к стене большой молочный бидон и широкий алюминиевый бак, располагая их поудобней, шуровал кочергой в топке и выметал голичком остатки мусора.
Щёки его раскраснелись, в глазах плясали огоньки: то ли отсветы углей, то ли искры азарта - поди разберись, да и некогда разбираться, когда вот-вот сливать первый котел и опять носиться от колодца к бане, от бани к колодцу...Работа, за которую он с такой неохотой взялся, захватила его, было весело от сознания взрослой силы и сноровки, с которой, как казалось ему, он колол дрова, носил воду и следил за огнём. Все тут было в его власти, и он, уже без суеты, невольно подражая отцу, присел на корточки у печки, наблюдая, как волнами пробегает по углям синеватый жар. Ему даже захотелось покурить, хотя ещё маленьким он до зелёной рвоты накурился махорки, которую стащил из дома беспечный Христофор, неизвестно за что получивший свою странную кличку и охотно на нее откликавшийся. В тот раз, воображая себя почему-то индейцами, они долго, одну за одной, смолили неумело и наспех скрученные самокрутки, пока обоих не скорчил выворачивающий внутренности кашель. С тех пор он не притрагивался к табаку, хотя многие пацаны из его класса уже вовсю дымили в туалете, и от них по-взрослому независимо пахло куревом.
А однажды всё с тем же выдумщиком Христофором сели после уроков в автобус, собираясь выйти у кладбища и берегом реки вернуться назад, но полупустой дребезжащий автобус, урча и подвывая, проскочил мимо, и они, неожиданно для себя, очутились в большом соседнем селе, за семь верст от дома. Сперва это их смешило, и они без умолку хохотали, дурачились, кидали в воду камни и щепки, слушая, как с жалким чмоканьем пропадают они в жёлтой пене грозно ревущих порогов, спорили, кто дальше кинет, даже пытались столкнуть с обрывистого берега огромный, нависший козырьком валун, но чуть сами не свалились в воду, и бросили это занятие, вдруг обнаружив, что день, так беззаботно прожитый, сменился вечером, и вязкие, гнилые сумерки уже клубятся в чахлом прибрежном лесу, делая его чужим и недобрым. Недоброе что-то чудилось и в сухом шорохе листьев, и в ровном несмолкаемом шуме реки, и в шелесте ветра, ставшего вдруг сырым и холодным... Не сговариваясь, они побежали по засыпанной листьями тропке и уже не глазели по сторонам и не рассуждали о том, как было бы интересно залезть в пещеру на той стороне, откуда бежала, разбиваясь о камни, подземная речка. Сама мысль о пещере казалась неприятной, пробирала по спине ознобом, и они бежали и бежали, пока не закололо в боку. Христофор скрючился, присел и, отдышавшись, сказал, что он не рыжий, что дальше не побежит, пусть дураки бегают, а он посидит на камне, и вознамерился было взгромоздиться на большой замшелый валун, наполовину вросший в землю, но тут глаза его округлились, он побледнел и, тыча пальцем в неглубокую, блюдечком, выбоину, прошептал побелевшими губами: "Кровь!" И так он это произнес, что оба застыли, как вкопанные, у этого обыкновенного с виду камня, от которого вдруг пахнуло таким могильным холодом, таким мраком, что они сразу вспомнили о недавнем убийстве, случившемся таким же вот осенним вечером, когда дядя Коля Сергеев подстерёг на берегу дядю Сашу Барулина, с которым подрался накануне по пьяному делу, и застрелил его из ружья, а сам скрылся неизвестно где, и его разыскивала милиция... Выбоина в камне багрово отливала красным, и не оставалось никаких сомнений, что это, конечно же, кровь ещё одной несчастной жертвы, и что дядя Коля, может быть, где-то рядом, в кустах, и, может быть, даже целится в них из ружья, ведь говорили же мужики, что ему нечего теперь терять...
Как их оттуда унесло и как очутились дома, поклявшись никогда и никому не раскрывать своей страшной тайны, оба тогда так и не поняли. В ушах свистел и пофыркивал ветер, ноги едва касались земли, и только когда впереди показалось кладбище, а за ним колхозные мастерские и вытянутые в линию дома, еще тёмные и пустые в этот вечерний час, они перевели дух и, стараясь не глядеть на кресты за оградой, пошли хоть и быстро, но шагом.
Вот тогда-то и договорились они никому ничего не говорить, но Христофор всем всё разболтал, да ещё наврал, что они видели гильзу от патрона и охотничий нож со следами крови. Он тогда смолчал и даже как будто поддакнул, а потом и сам незаметно для себя стал что-то прибавлять, с чем Христофор радостно соглашался, вспоминая на ходу новые подробности о страшном камне. Они даже договаривались туда сходить, чтобы на месте показать всё, о чём с таким упоением говорили. Но вскоре зарядили дожди, потом повалил снег, рано замёрзло, после школы пацаны расчищали на пруду лёд и катались на коньках, прикручивая «канады» и «снегурочки» к валенкам. У бедняги Христофора коньков сроду не бывало, и он терпеливо ждал, когда ему дадут прокатиться, хотя, сказать по правде, катался он, как худая девчонка, и ничего, кроме насмешек, своим появлением на катке не вызывал.
Дядю Колю нашли по весне рыбаки. Он застрелился той же осенью, и труп его, лежавший на берегу глухого лесного озера, был, говорят, до неузнаваемости исклёван воронами. И схоронили его тёмной ночью на краю Нилушки в закрытом гробу. Об этом ещё какое-то время с суеверным ужасом все говорили, а потом забыли, и если вспоминали, то как-то вскользь, не вороша подробностей. История с камнем к тому времени тоже забылась, и они с Христофором больше не вспоминали о ней.
...Шум в котле нарастал, пар валил сквозь все щели, в бане сделалось сыро и душно. И когда он ковшом стал сливать кипяток сперва в бидон, а потом в бак, пар заметался под потолком, обжигая своим горячим дыханьем и мешая работать. Жарко взмокла спина, пот струйками бежал за ворот, заливал глаза, и не было никакой возможности стереть его. Шаркнув ковшом по дну, он усмирил раскалённый котел ведром холодной воды и, согнувшись, выскочил на волю.
Сердце трепыхалось под мокрой рубахой, в висках стучало и тюкало, он жадно хватал ртом холодный осенний воздух, пахнущий подопревшей картофельной ботвой, дымом и коровьим навозом. У соседей тоже топили баню, слышно было, как звякают за забором вёдра, как плещется в колодце растревоженная вода...
И теперь здесь всё так же, как было когда-то. Ещё висят в предбаннике порыжевшие, никому не нужные веники, притулилась в углу ржавая кочерга, лежит на лавке кусок хозяйственного мыла, похожий на обломок кирпича... Всё здесь, как было, только жизнь незаметно выветрилась из этих прокопчённых стен, оставив зачем-то безнадёжно горький запах дыма.